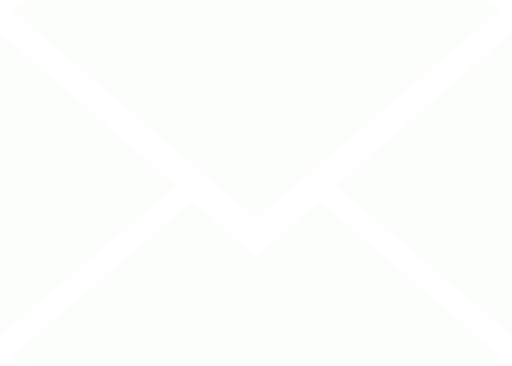Станислав Нейгауз.
“Автобиография и. о. профессора С. Г. Нейгауза.
Я, Нейгауз Станислав Генрихович, родился в 1927 году 21 марта в г. Москве в семье профессора Московской государственной консерватории Генриха Густавовича Нейгауза.
В 1933 году я поступил в Музыкальную школу им. Гнесиных, в класс В. В. Листовой.
Одновременно учился в средней школе № 12 Ленинского района.
В 1941 году окончил музыкальную школу. С 1941 по 1943 находился в эвакуации в г. Чистополе Татарской АССР, где продолжал обучение в средней школе.
Вернувшись в Москву в 1943 году, я поступил в музучилище при Московской консерватории в класс доцента В. С. Белова. Окончив училище в 1944 году, я поступил в класс профессора Г. Г. Нейгауза. Окончил консерваторию в 1950 году и в 1953 году – аспирантуру.
В 1957 году я начал свою педагогическую деятельность в Московской консерватории сначала как ассистент профессора Г. Г. Нейгауза, а затем, с 1964 года в качестве преподавателя кафедры специального фортепиано консерватории.
В 1966 году я получил звание доцента, в 1970 году был утвержден в должности и. о. профессора кафедры специального фортепиано МОЛГК и занимаю эту должность в настоящее время.
За время моей работы в МОЛГК по моему классу и классу моего профессора закончили консерваторию 50 человек, в том числе 30 студентов, 14 аспирантов и 6 стажеров из зарубежных стран. Многие из них ведут интенсивную концертную деятельность в Советском Союзе и за рубежом, а иностранные студенты – у себя на родине. Многие работают педагогами и концертмейстерами высших и средних учебных заведений страны. Некоторые стали лауреатами международных конкурсов, как, например:
1. Г. Андриаш (Румыния) – 3-я премия на Международном конкурсе им. Энеску в Бухаресте.
2. В Кастельский – 5-я премия на Международном конкурсе им. М. Лонг и Ж. Тибо в Париже.
3. Е. Могилевский – 1-я премия на Международном конкурсе им. Королевы Елизаветы в Брюсселе.
4. Р. Лупу (Румыния) – 5-я премия на Международном конкурсе в Вене 1-я премия на Международном конкурсе им. Вана Клиберна в США 1-я премия на Международном конкурсе им. Энеску в Бухаресте 1-я премия на Международном конкурсе в Лидсе в Англии
5. В. Крайнев – 2-я на Международном конкурсе в Лидсе 1-я премия на Международном конкурсе в Лиссабоне 1-я премия на Международном конкурсе им. Чайковского
6. Л. Баранян (Венгрия) – 3-я премия на Международном конкурсе им. Листа в Будапеште.
Все они очень много концертируют в различных странах мира.
В настоящее время в моем классе занимаются 7 студентов, 2 стажера и 1 аспирант. Ежегодно проводятся классные вечера в Малом зале консерватории в Москве, студенты принимают участие в кафедральных и факультетских концертах. Неоднократно класс выезжал на гастроли в другие города Советского Союза, например, состоялось по нескольку концертов в Ленинграде, Киеве, Риге, Тбилиси, Свердловске, где студенты выступали с сольными и симфоническими концертами.
Студенты ведут большую общественную работу, принимают участие в шефских концертах, в поездках концертных бригад, ведут работу в газете и т. д.
Одновременно с педагогической работой я веду большую концертную деятельность. С 1949 года как солист Гастрольбюро, а затем в качестве солиста Московской филармонии.
Неоднократно концертировал, помимо Москвы и Ленинграда, во всех республиках Советского Союза, а также за рубежом в городах Венгрии, Италии, Франции, Чехословакии, Югославии, Бенилюкса, Польши и др. Во время гастролей провожу встречи с педагогами и учащимися консерваторий, училищ и музыкальных школ, даю консультации, уроки, бесплатные концерты для учащихся. В 1966 году был удостоен звания заслуженного артиста республики (РСФСР).
С. Нейгауз
1972 г.
(Из архива Г. С. Нейгауза)
От составителя:
В 1977 году Станислав Генрихович Нейгауз стал профессором Московской государственной консерватории.
В 1978 году был удостоен звания народного артиста РСФСР.
Умер 24 января 1980 года”. *
В лаконичные строки этой автобиографии, написанной скупым, “канцелярским” слогом, укладывается вся короткая жизнь великого Артиста, Музыканта, Пианиста и, в первую очередь, Человека. О некоторых моментах этой жизни мне вспоминать не хочется (хоть я и не забываю), другие врезались в память настолько ярко, зримо, выпукло, ощутимо, что кажется, будто они произошли вчера. Эти воспоминания причиняют боль как тем, кто их пишет, так и читающим, близко знавшим отца людям.
В последние годы я часто писал о нем, потому что мне приносил боль и еще один факт: об отце совершенно забыли. Когда люди слышат фамилию “Нейгауз”, в первую очередь возникает ассоциация с дедом и его фортепианной школой. С. Рихтер, Э. Гилельс, Р. Лупу, Э. Вирсаладзе, В. Крайнев, А. Любимов и другие ученики деда так прославились и в России и за рубежом, что было бы трудно забыть об их Учителе. Да и то, в последнее время все чаще раздаются голоса, утверждающие, что дед, возможно, и был хорошим педагогом, но плохим пианистом. Его ученики утверждают обратное (Виктор Деревянко, например, в последнем интервью высказался довольно резко: “Вранье! Причем, вранье умышленное!”). Нетрудно понять, что этим же людям не хочется вспоминать и об отце.
Честно говоря, иногда я тоже стараюсь не вспоминать о его уроках и выступлениях, хоть и по другим причинам. Слишком эти воспоминания тяжелы. Это были концерты перфекциониста, это были уроки максималиста. Они были нам в тягость и в радость. В тягость – потому что ты понимал: так ты все равно не сыграешь. В радость – потому что если уж отец тебя похвалил, нас озаряла светлая мысль: значит, не зря мы живем на этом свете. Любую ложь и фальшь в искусстве отец переносил так, будто ему нанесли личное оскорбление.
И еще одно. Однажды, после концерта, в котором он играл (бесподобно!) четыре скерцо Шопена, он немного по-детски, наивно спросил у меня: “Ну, как было?” (Тогда я учил как раз первое и второе скерцо.) Я ответил, что больше не прикоснусь к этим пьесам. Видимо, он меня не понял, или просто был слишком взволнован после этой, довольно тяжелой, программы. “Неужели так плохо? – пробормотал он в сторону. К счастью, рядом стоял его старый друг, Е. Малинин. “Стасик, ты не понял Гаррика! Он подразумевает, что никогда так здорово не сыграет. Да и я не сыграю. Может, за исключением Второго”, – со смехом разрядил неловкость Евгений Васильевич. “Странно. Я в его возрасте хотел “переиграть” папу, а он стесняется. Женя, ты бы присмотрел за ним, когда он в консерваторию поступит” – ответил отец. “Инцидент” был исчерпан, но легкий, неприятный осадок остался.
На следующем уроке я спросил отца, что он, собственно, подразумевал под этой просьбой. “Сначала ты хотел, чтобы я занимался у Наумова, потом обещал взять меня в свой класс, теперь вдруг с Малининым заговорил. Что ты имел в виду?” – спросил я. “Да нет, ничего. Не обращай внимания, это я – так. Устал после концерта. Пока с Леной Рихтер** еще позанимайся, она тебе пальчики укрепит. Конечно, я возьму тебя в свой класс, надеюсь, Наумовы не обидятся. Да, и еще. Фантазию Шопена ни на каких зачетах и экзаменах не играй. У каждого на этот счет свое мнение. Вот Полонез-фантазию – пожалуйста! Отдохнул? Пойдем дальше заниматься!”
А через год с небольшим отец умер. Видимо, уже тогда, летом 78-го он жил в постоянном предчувствии смерти. Но разве мы, юные балбесы, могли это понять? Или хотя бы задуматься об этих словах?! Нам-то казалось, что он будет жить вечно. Ведь мы-то о возможности своей смерти и не предполагали!..
Интересно послушать и сравнить его ранние записи с поздними, интересно сверить программы самих концертов. На самых старых пластинках мы слышим молодого, утонченного виртуоза, блестяще исполняющего такие любимые публикой произведения, как 7-й вальс и 2-е скерцо Шопена, “Венецию и Неаполь” Листа етс. В программах, наряду с Шопеном и Рахманиновым соседствуют “Кордова” и “Наварра” Альбениса. В его позднем наследии – крайне зрелого, умудренного художника, основное направление которого можно было бы охарактеризовать словом “надрыв”, не неси это слово общепринятой отрицательной смысловой нагрузки (Листок из Альбома es-moll Шумана, вся соната h-moll Шопена, его же четыре баллады, мазурки f-moll, обе cis-moll ор. 63 № 3, ор. 50 № 3, последняя f-moll’ная, единственная (и оттого, быть может, не самая удачная) запись шумановской “Крейслерианы”, этюд c-moll op.25 Шопена, экспромт c-moll Шуберта, соната a-moll Моцарта, этюды-картины Рахманинова)… Предельная выразительность при крайне скупых средствах. Очень редкая, “осторожная” педаль.
Впрочем, эти сравнения мне самому кажутся слегка натянутыми. Четыре совершенно разных музыканта (дед, С. Рихтер, Я. Зак, Е. Малинин) говорили, что не слышали лучшего исполнения h-moll’ной сонаты Шопена, чем папино – на Всесоюзном отборе на Шопеновский конкурс 1949 года…
Тогда его не выпустили даже в Варшаву, хоть он и прошел на отборе первым номером. Просто не дали визу, объяснив, что из-за международного положения советскую школу не может представлять пианист со столь одиозной фамилией. Мало чекистам было того, что во время войны они 9 месяцев деда на Лубянке продержали. С тех пор отец буквально приходил в бешенство, если видел на своей афише надпись “лауреат международных конкурсов”…
Чему он учил нас на своих уроках? Абсолютной преданности авторскому тексту? Точной фразировке, звуковому мастерству, форме, содержанию, утонченной педализации, точному и, одновременно, свободному ритму? Разумеется, но главное было даже не в этом. Я бы выделил несколько основных элементов его педагогики.
1) Любить рояль. От концертного “Бехштейна” и до самого разбитого советского пианино. “Надо любить рояль, любить звук, любить произведение, может быть, тогда вам и удастся добиться от рояля взаимности и отзывчивости”, – часто говорил он студентам.
2) Не лгать. Конечно, он никогда не цитировал Станиславского, но любил повторять: “Рояль чувствителен. Если вы лжете, переигрываете – он моментально это чувствует. И ваша ложь становится слышна всем. Рояль любит только правду”. Эта персонификация рояля заражала учеников, и, на практике – делала их действительно намного честнее даже в реальной жизни.
Его ученица Брижит Анжерер (лауреат международных конкурсов, ныне профессор Парижской национальной консерватории) рассказывала мне, как однажды в консерватории одна из студенток играла какой-то этюд Листа. Отец со скучающим видом дослушал этюд до конца, немного помолчал и спросил: “Скажите, дорогая, зачем Вы живете на этом свете?” Жестокий вопрос. Но по-своему – оправданный. Тот же максимализм, который отец проявлял к себе, автоматически переходил на всех его учеников. Если бы я смог сейчас говорить с ним, я бы, наверное, сказал, что смысл жизни не состоит в одном, идеально сыгранном, такте музыкального произведения. И, конечно, услышал бы в ответ: “Тогда не играй на рояле”. (Впрочем, сейчас я уже сам решаю, что мне делать…)
Недавно я обратил внимание на то, как многие бывшие ученики отца подражают ему в педагогике. Да и я сам этим, оказывается, грешу. Однажды на дачу в Переделкино приехал Володя Крайнев, тогда уже заслуженный артист РСФСР, лауреат всевозможных премий. Он играл 12 этюдов Шопена ор. 10, а мы с моей двоюродной сестрой Леной Пастернак сидели в столовой и играли в карты. В 4-м этюде Володя немного “загонял” коду, там стоит авторская ремарка con piu fuoco possible, а в тот раз Володя играл сплошное accelerando. Отец же считал, что шопеновское примечание должно в корне изменить и характер и темп всего предыдущего текста, а далее следует держать один темп до последней ноты. Темп Володя изменял, но далее все равно шло accelerando, отец отстукивал ритм ногой, втаптывая ее в паркет, и оба этажа дачи сотрясались от грохота. Домработница бурчала: “хоть бы дом пожалел”… Прошло 25 лет после его смерти, и вот – мой ученик сидит за роялем в моей израильской квартире и играет тот же этюд. И я инстинктивно начинаю топать ногой, отбивая ритм в конце 4-го этюда, и кричать: “Con piu fuoco possible отсюда, болван!” Хорошо, что он не говорит по-русски…
Вообще, с Володей Крайневым у меня связано много воспоминаний. Но одно из них, пожалуй – самое ценное. Я учил 3 интермеццо Брамса ор. 117, мы с отцом прослушали, на мой взгляд, совершенно гениальную запись Раду Лупу, после чего отец спросил:
– Ну что, хоть так-то сыграешь?
– Нет.
– Да ведь это просто. Вот знаешь, кто в моем классе играл эти интермеццо лучше всех? Никогда не поверишь. Крайнев!
– Как это Крайнев?
– Очень просто. Вот так, как он, ты сейчас действительно не сыграешь.
Прошло несколько лет. Помер очередной коммунистический генсек. Советское телевидение начало крутить по всем каналам классическую музыку. Крайнева я слышал дважды. Сначала запись 1-й части 2-й сонаты Скрябина. (Наверное, руководство ТВ по своей тупости сочло исполнение мрачного финала кощунством). А потом – интермеццо Es-dur, op. 117. Я внимательно вслушивался в каждую ноту. Эта интерпретация показалась мне верхом совершенства. Феноменальное владение временем. Пела каждая нота. Идеальное голосоведение. В es-moll’ной середине я уже перестал вслушиваться в столь знакомое сочинение. Просто – получал огромное, ни с чем сравнимое удовольствие.
Как ни старайся быть объективным, в любом классе всегда найдется “любимый” ученик. Таким любимцем для отца стал Андрей Никольский. Он был всего на 2 года старше меня, но, “проскочив” в ЦМШ два класса, поступил в консерваторию в тот же год, когда я поступил в Гнесинское училище. Вскоре мы подружились. У Никольского были огромные руки, феноменальные слух и память, фантастические технические данные, тонкое звукоизвлечение. Большие фортепианные полотна он выучивал за несколько дней. Идеально читал с листа. Разумеется, такому дарованию отец прощал все (или почти все).
При жизни отца Андрей получил 2-ю премию на Международном конкурсе им. М. Лонг в Париже. Мы не любили ходить в консерваторию, я чувствовал себя там чужим, Никольский (или Никола, как его называли близкие друзья) тоже предпочитал ездить на электричке в Переделкино и играть отцу на абсолютно разбитом “Бехштейне”, хотя в 29-м классе тогда стояли гораздо лучшие рояли.
После смерти отца он перешел в класс Л. Н. Наумова, но так и не прошел ни на один международный конкурс. Затем эмигрировал, получил 2-ю премию на Международном конкурсе в Мюнхене, а в 1987 году – 1-ю премию на Международном конкурсе им. Королевы Елизаветы в Брюсселе.
Несмотря на внешнюю открытость (когда Андрей хотел, он мог быть очень обаятельным), он становился все мрачнее и депрессивнее. Потом неожиданно увлекся дирижированием, после развала СССР часто ездил в Москву и в Питер, брал уроки у Мусина. С детства Никола водил машину, был влюблен в автотранспорт. Тем страшней и нелепей выглядела его смерть: в ночь со 2-го на 3-е февраля 1995 года он потерял управление и погиб в автокатастрофе…
Конечно, у отца были (и есть) другие ученики, с которыми я до сих пор поддерживаю близкую, почти родственную связь. Ира Чуковская, например, проучилась в папином классе только год, затем, не выдержав папиного давления и “сверхтребовательности”, вернулась в класс В. Горностаевой, потом перешла к Д. Башкирову, но в сути, так и осталась папиной ученицей. Даже сейчас, будучи совершенно индивидуальной, сформировавшейся личностью, она постоянно интересуется, как играл ту или иную пьесу отец, каковы были его пожелания, рекомендации и т.д. Однажды, когда тарифы на международные телефонные разговоры были еще очень дорогими, она звонила мне из Америки, и я заводил ей (по телефону!) записи нескольких вальсов Шопена в исполнении отца. Для нее это было дорого, а для меня… трогательно.
Очень своеобразными талантами обладают и другие, последние папины ученики: Сергей Калачев, Андрей Микита, Александр Мекаев. Как и дед, отец очень ценил “композиторское начало” у пианистов и всячески советовал его развивать. Микита, Мекаев, из более ранних учеников А. Басилов – талантливейшие композиторы, и мне остается только сожалеть, если чей-то творческий потенциал оказался не до конца реализованным. Конечно, я мог бы многое написать о других папиных учениках, ставших мне почти родными, но в таком случае придется браться за книгу. Одной журнальной статьи попросту не хватит. Е. Рихтер, Е. Левитан, Б. Анжерер, В. Кастельский… Без их влияния (прямого или косвенного) я стал бы совсем другим человеком…
Сейчас многие восторгаются звуковой палитрой отца. Что, на мой взгляд, совершенно справедливо. Но иногда игнорируется не менее серьезная составляющая нашего ремесла: работа над ритмом. Здесь С. Нейгауз не знал себе равных. Его постоянная работа над малейшими ритмическими колебаниями произведения была долгой, скучной и упорной.
В отличие от деда, он редко приводил нам примеры из живописи, философии, поэзии, архитектуры. (А если и приводил, то, в основном, иностранным ученикам. Считалось, что мы изначально должны все это знать.) Зато скрупулезной работе над ритмом уделялись часы работы, и добиться требуемого результата надо было “здесь и сейчас”.
Его любимыми пианистами (если не вкладывать в это слово негативный оттенок) были А. Корто и В. Софроницкий. Любимой пластинкой – запись Микеланджели G-dur’ного концерта Равеля и 4-го концерта Рахманинова. (Странно-иронически он относился к гениальной М. Юдиной. С огромным уважением – к М. Гринберг…) Как и дед, отец восторгался С. Рихтером, однако и тут оставался при своем мнении. Как-то мы вместе слушали кларнетную сонату f-moll Брамса (с Камышевым), 4 скерцо Шопена и этюды Шопена в исполнении С. Рихтера в Пушкинском Музее. Возвращаясь домой, молчали. “Ну, что тебе понравилось?” – нарушил тишину отец. “4-е скерцо”, – ответил я. “Да! И еще этюды!” – ответил он. Этюды действительно были сыграны гениально. А потом вышла рихтеровская пластинка с четырьмя скерцо. “Тебе все еще нравится?” – спросил я. “Ну, понимаешь… это ступени”, – ответил отец. “Когда-то Слава здорово играл, хоть и колотил. Потом играл гениально. Все гениально! А сейчас – вот так…”, – и он обиженно покосился на проигрыватель. “Все равно Шуберта никто лучше не сыграет!” – заключил он.
Его раздражали попытки учеников подражать Корто или Софроницкому. “Подражание – вообще глупость, а уж этим гениям – еще и наглость”, – говорил он.
Хочется упомянуть о его репертуарных пристрастиях. Это тем более актуально, что прославился отец главным образом, как исполнитель Шопена и Скрябина, хотя любил и замечательно играл многих авторов. Сонаты Бетховена №№ 7, 14, 26, 27, 30, 31 и 32, его же 5-й концерт, Соната A-dur op.120, 5 экспромтов, 6 Музыкальных Моментов, и однажды исполненные в листовской обработке песни Шуберта, рапсодии и интермеццо Брамса, 5-я и 8-я соната, а также мелкие пьесы из “Ромео и Джульетты” и ор. 32 Прокофьева, “Венеция и Неаполь”, Сонеты Петрарки, пьесы из цикла “Годы странствий”, 1-й забытый вальс, “Погребальное шествие” и 2-й концерт Листа, прелюдии, этюды-картины, 2-й и 4-й концерты его любимого Рахманинова… Быть может, я и сужаю свой кругозор, но мне почему-то не хочется слушать эти произведения в других, даже более совершенных исполнениях.
Он очень любил одиночество, иногда говорил, что “пианист обязан быть эгоистом”. Как я его сейчас понимаю… Не зря почти половину своей жизни он прожил на пастернаковской даче. Даже без телефона. А тогда, 20-30 лет назад, многие обижались, без предупреждения приезжая в Переделкино и видя его мимолетную, но хмурую усмешку. “Опять помешали…”.
Только намного позже я понял, как необходимо музыканту подобное одиночество, если уж ты действительно намерен донести до публики правду искусства, а не просто блеснуть виртуозным пассажем, красивыми трелями, или показать красоту фортепианного звука. Именно это уединение и посвященность роялю отец называл грубым словом “эгоист”, но тогда мы этого не понимали.
Несмотря на свою постоянную занятость, он искренне радовался приезду таких друзей- музыкантов, как Н. Гутман, О. Каган, И. Кандинская, Р. Лупу с Лизой Уильсон, и многих других. В отличие от тех же Володи Крайнева и Брижит Анжерер, они не умели разговаривать и шутить с детьми, во мне это вызывало какое-то раздражение, и я скрывался в другой комнате. Как я сейчас об этом сожалею! Ведь те проигрывания с листа, прослушание записей гениальных дирижеров и скрипачей, репетиции с Н. Гутман виолончельной сонаты Шопена могли дать мне сейчас даже больше, чем папины уроки…
Если уж я коснулся его любимых (и нелюбимых) записей, хочется вспомнить еще два момента. Однажды я купил в “Мелодии” пластинку с виолончельными сонатами Шопена и Рахманинова в исполнении Тортелье и Чикколини. Мы прослушали две части из сонаты Рахманинова. Отец усмехнулся, сказал: “Мне не очень нравится, но все равно неплохо”, и выключил проигрыватель. Позанимавшись, я уехал (то ли в Ленинград, то ли в Грузию, не помню), и вернулся в Переделкино только через две недели. Отец был раздражен и взволнован, но не стал допытываться о причинах моего отсутствия. Мы сели пить его любимый чай “Earl Grey”, неожиданно он встал, быстро зашел в рояльную, и через несколько секунд вышел с этой пластинкой в руках.
– Вот, забери этот кошмар, а еще лучше – выбрось!
– Тебе же понравилось!
– Этот Чикколини в сонате Шопена берет фальшивую ноту! А запись студийная. Так что это не от волнения. Нет ничего страшнее для музыканта, чем фальшивая нота! Вернее, для пианиста! Он вообще не имеет права называться музыкантом! Понимаешь? Не имеет, – в его голосе слышалось благородное негодование.
– Но Тортелье-то тебе в прошлый раз нравился!
– Как мне может нравиться виолончелист, который не слышит, как его партнер берет фальшивую ноту?!
Вот и все. Приговор был произнесен и обжалованию не подлежал.
В другой раз, намного раньше, я купил пластинку малоизвестного польского пианиста с мазурками Шимановского и сонатой h-moll Шопена (хотелось прослушать редко исполняемые пьесы Шимановского.) Отец заехал в нашу московскую квартиру, увидел пластинку и попросил поставить Шопена. Дослушал до проведения второй темы и сказал: “Выключи”. “Что, плохой пианист?” – наивно спросил я. “Нет, пианист, кажется, замечательный. Ритм упругий. Пальчики хорошие. Но – рояль не поет!” “Значит, не музыкант” – попытался я сыронизировать. “Конечно, не музыкант”, – удивленно ответил отец. “И никогда им не станет. Но пианист – хороший”. Тогда я удивился подобной снисходительности. Но впоследствии… Его высказывания на уроках тщательно записывала Р. Хунцария (ныне лауреат международных конкурсов, заслуженная артистка Грузии). Читая ее заметки, я обратил внимание на следующую реплику отца:
“Музыка – организованное время, без ритма нет музыки. Существует много хороших пианистов, у которых рояль звучит попросту плохо, но настолько сильно воздействие ритма, организованности во времени, что звук, как таковой, не играет первостепенную роль”(выделение от ред.).
Наверное, это единственное, в чем я до сих пор не могу согласиться с отцом. Я убежден, что пианист с плохим звуком по определению является плохим (или попросту бездарным) пианистом. Впрочем, глупо, да и немного цинично высказывать свое мнение, зная, что опровергнуть его уже некому… Остается только благодарить Бога за те мгновения подлинной Красоты, которые мы так жадно ловили на концертах отца, и которые он так щедро нам дарил…
* Станислав Нейгауз. Редактор-составитель Н. Зимянина, Издательство “Советский композитор”, 1988
** В те годы Е. Р. Рихтер работала ассистенткой в классе отца.